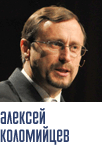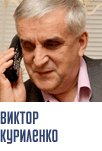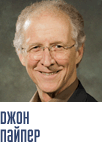Выезжая из прокуратуры, я рассудил, что Полякова дисциплинированна и, конечно же, ждет меня сейчас на вокзале. Дорога же, по которой поеду в «СХТ» я, проходит через улицу от вокзала, да еще через широкий сквер. Так что риска встретиться — почти нет, за исключением, конечно, какого-либо недоразумения или случайности Но я же был «везучий», и я решил, что, конечно же, проскочу.
По пути я завернул домой, чтобы сказать брату, что мероприятие не состоится. Объяснил это тем, что с утра внезапно был вызван в райком, просидел на бюро, где теперь искать кассира — неизвестно, потому пока все отменяется. Узнав, что я еду в «СХТ», брат сказал, что поедет со мной, поговорить по поводу изготовления тренажера со сварщиком.
В «СХТ» мы пробыли минут десять. На обратном пути я посадил в машину попутчицу, ревизора райфо, попросившую довезти ее до центра. Когда проезжали через площадь, женщина попросила высадить ее у почтамта. Пока она сходила, я тоже вышел поздороваться с одним знакомым и в этот момент увидел выходящую из ателье Полякову. Она сказала, что Ковалева на вокзале, а она решила «добежать на минутку до ателье, передать кое-что знакомой» Все мои старания увернуться от этой встречи оказались безрезультатными: использовав весь набор «случайностей», сатана все равно свел нас в этот день друг с другом лицом к лицу.
Таким образом, завравшись, я оказался меж двух огней. С одной стороны была Полякова, которая видела, что машину мне вернули, а потому оснований не исполнять своего обещания отвезти их в село у меня больше нет. Приведи я теперь какую-либо новую отговорку, она бы сразу поняла, что я просто вожу ее за нос.
С другой стороны был брат, который знал, что Полякова — это как раз и есть тот самый кассир, за которым мы охотились и который якобы уехал. Начни я отказываться везти Полякову теперь, он сразу же, как мне казалось, что-либо заподозрит, догадается, что я просто пошел на попятную, струсил.
Времени на обдумывание вновь создавшегося положения у меня не было. Я решил, что раз от поездки уклониться не получается, я поеду, но грабить не будем. Брату же потом скажу, что действовать на авось, без плана, в таком деле — заранее обречь себя на провал. Тот план, который был предварительно составлен мною, теперь не годился, так как и встретились мы не тайно, а на людях, и ехали не на той машине, и не в ту сторону, и т.д. Я велел Поляковой садиться, забрал на вокзале Ковалеву с сумками, и мы поехали.
Всю дорогу говорила, в основном, Полякова. Я делал вид, что слушаю, сам же обдумывал, что скажу брату, когда поедем вдвоем назад. Потому, когда у очередной развилки Полякова показала рукой направо, сосредоточенный одновременно и на том, что говорит она, и на своих мыслях, я механически повернул направо. Когда же, проехав метров сто, я сообразил, что еду не туда, и хотел остановиться, Полякова сказала, чтоб я ехал вперед, потом свернул на след и остановился на лесной поляне. Она сказала, что у них для меня сюрприз, и пояснила, что в воскресенье у Ковалевой день рождения и что это событие нужно отметить.
Где-то с этой минуты я уже почти физически почувствовал присутствие какой-то посторонней воли. Организовавшая «случайности» того дня: преждевременное возвращение моей машины, звонок о запчастях, встречу с Поляковой у ателье, — действовавшая до этого момента скрытно, она словно вышла из тени и приблизилась ко мне вплотную. Я все еще тешил себя надеждой на то, что все равно мне удастся свести все к тому, что все, что я нафантазировал, напланировал, наобещал, — несерьезно, просто игра, играть в которую я был согласен, но убивать человека по-настоящему — это невозможно, это противоестественно — я и не хочу этого, и не могу. Я как будто начал что-то понимать, о чем-то как будто догадываться, но ухватить суть уже не мог. Я продолжал отнекиваться, отказываться, но чувствовал, как эта чужая, многократно превосходящая меня по силе воля неумолимо обступает меня, обжимает меня с трех сторон, теснит, оставляя мне возможность двигаться только в одном-единственном направлении — к месту, где я должен был сделать то, что обещал.
Собственной, своей воли я почти не ощущал в себе, ее не хватило даже на то, чтобы возразить Поляковой, отказаться от их «сюрприза», — я и свернул, и проследовал, и остановился, как указала она.
Женщины начали раскладывать закуски. Я отошел. За мной последовал брат. Мы оказались наедине — я должен был распорядиться, должен был сказать «да» или «нет». Я хотел сказать «нет», мое желание стремилось именно к «нет», хотя говорить брату об истинных причинах отказа от своих намерений я вовсе не собирался и теперь. Я хотел только сослаться на какое-нибудь обстоятельство, которое бы свидетельствовало о невозможности осуществления нападения теперь же. И этих обстоятельств, пока мы ехали, роилось в моей голове множество: и то, что есть свидетель моего разговора по телефону, где я обещал Поляковой отвезти их в колхоз; и то, что есть множество свидетелей, которые видели, как именно я посадил в машину и кассира и бухгалтера; и то, что у переезда мы столкнулись с милицейским «уазом» и милиционеры видели, что Полякова выехала из города именно со мной; и то, что у автобусной остановки я останавливался по просьбе поднявшего руку при виде наших «Жигулей» моего знакомого, с которым я разговаривал, а стоявшие в это время на остановке люди, прекрасно знавшие меня в лицо, пристально разглядывали моих пассажирок, — и все эти свидетели, в случае исчезновения наших женщин, немедленно укажут как на подозреваемого именно на меня.
Я мог бы сослаться хотя бы на то, что ни пистолета, из которого я собирался убивать, ни всего остального, что было приготовлено нами для убийства заранее, у нас с собой нет — так как мы ехали не на разбой, а всего лишь в «Сельхозтехнику», все это было оставлено дома.
Ни одного из этих аргументов я не привел. Впоследствии ни следователи, ни судьи, ни просто знавшие и не знавшие меня люди никак не могли понять, как мог я, следователь-профессионал, пребывая в трезвом и здравом уме, пойти на совершение преступления при наличии стольких изобличающих улик: более 30(!) только одних прямых свидетелей, все слышавших и все видевших. Это было равносильно тому, что убить человека на глазах толпы, среди площади, средь белого дня. На такое мог решиться или самоубийца, или сумасшедший.
Чтобы ответить на этот вопрос, не кому-то, не для самооправдания, а только самому себе, разобраться, что же все-таки со мной тогда творилось, мне понадобилось около двух лет.
Говорившие, что я просто сошел с ума, были почти правы. В те минуты я действительно находился в состоянии частичного умопомрачения. Но это было не психическое расстройство, это было что-то другое. Если попробовать передать то ощущение словами, то грубо это выглядело так, словно мое сознание сузилось до понимания лишь происходящего вот в эту, текущую минуту — прошлое и будущее отсеклось: я не мог ни опереться на прошлое, ни предвидеть даже самого элементарного будущего: что после понедельника наступит вторник, после зимы весна. От активного понимания происходящего, от управления им все свелось лишь к пассивному восприятию, к констатации, хотя и четкой и ясной, но не содержащей в себе зарода секунды будущей.
Кто-то сказал, что, если Бог желает наказать человека, Он просто лишает его ума. Если уточнить, что Бог только отворачивается от человека и позволяет приблизиться к человеку сатане — ослепляющему, одурманивающему, то я скажу, что со мной произошло именно это. Я действительно потерял способность управлять своим рассудком. Сатана сначала парализовал мою волю, мою способность сопротивляться, а следом он отключил мой рассудок. При этом я полностью сознавал и себя, и действительность — все слышал, все видел, был лишен главного — способности реагировать на ситуацию адекватно, анализировать, сопоставлять, предвидеть, оценивать происходящее критически. Собираясь сказать брату «нет», я сказал «да».
Позже, вспоминая и осмысливая тот момент снова и снова, я объяснил себе появление этого «да» проявлением закона, принцип действия которого состоит в том, что когда по какой-то причине отдел человеческого мозга, отвечающий за аналитическую и критическую деятельность, оказывается вдруг заблокированным, человеку оставляется возможность воспользоваться мыслью, хранящейся в отделе памяти. Но память не создатель мысли, она лишь накопитель ее. Что человек накопил в ней — то лишь, в критическую минуту, она ему и выдаст. (Пословица: «Что у трезвого на уме, то у пьяного — на языке» — проявление этого же закона, с тем лишь отличием, что отключает рассудок здесь не сатана, а выпитое спиртное.) Таким образом, получается: накопил доброе — память выдаст, а язык озвучит, именно доброе. Накопил злое — память его и выдаст.
Когда блок создания мысли оказался отключенным и во мне, и когда ткнулся в свою память ощупью я, она выдала мне то, что находилось в ней на самой поверхности, что преобладало в ней: мое намерение ограбить, мое согласие убить — накапливаемое и лелеянное в течение последних десяти месяцев зло.
Ничего, кроме этого «да», я брату не сказал, никакие детали не обсуждались. Мы вернулись к машине. Все выпили, я отказался, сослался на якобы предстоящее после обеда совещание, отошел к машине и взял всегда валявшийся в сумке с инструментами нож. Вернувшись ко всем, я сказал Поляковой, что мне нужно обговорить с нею кое-что еще. Она встала, и мы пошли — сначала краем поляны, а потом углубляясь все дальше в лес. Подлесок был густой, идти рядом стало неудобно, и я пропустил Полякову вперед. Она шла, рассказывая мне о положении дел в колхозе, не оглядываясь, ни о чем не подозревая. Оставалось взять нож и ударить. Я не смог.
Возможно, это была всего лишь агония, последний всплеск еще каким-то чудом сохранившейся в каком-то колене меня крохи человеческого. Возможно, что это был и просто результат просчета самого сатаны. Дело в том, что по моему предварительному плану я должен был стрелять, а не орудовать ножом. Обещание стрелять я действительно давал, но бить ножом — никогда: этот нюанс и предоставлял мне теперь право протестовать, отказываться делать то, о чем никакого предварительного уговора не было. В мою память сатаной была заложена картина, как я стреляю, но сцены, где я убиваю человека ножом, — в ней не было, и выдать мне такую сцену память не могла. В сатанинской сети это была прореха, и я как будто понял, что имею право на отказ от обязательств, и это чувство собственной правоты, сатаной заранее не предвиденное, позволило мне отодвинуть момент развязки на какие-то минуты еще.
Я увидел перед глазами голую шею Поляковой, ее незащищенную спину, но заставить себя представить, как я наношу в эту спину удар, — я не смог. Выхватив нож, я отшвырнул его в кусты и сказал Поляковой, что возвращаемся назад.
На брата я старался не смотреть, велел всем собираться. Теперь брат сел рядом со мной, женщины сели сзади, и я тронулся.
По приговору суда мотивом, побудившим меня совершить убийство, признана корысть. Но сам я все же склонен думать, что деньги, корысть — были лишь поводом к совершению преступления, а главным, что вытолкнуло меня за пределы допустимого, было мое гипертрофированное самолюбие.
У Стендаля есть фраза: «люди чрезмерно самолюбивые отличаются особенной способностью мгновенно переходить от раздражения против самих себя к неистовой злобе на окружающих».
Раздражаться и злиться на себя я начал чуть ли не сразу после того, как закинул нож.
Когда летишь на лыжах с яра, ощущение опасности упасть и свернуть себе шею гораздо больше, нежели когда уже съехал и смотришь на кручу снизу. Казалось бы: временной разрыв — миг. И тем не менее этот миг уже есть гарантия того, что падение, которое могло бы случиться, — уже не случится. Этот миг — стена, позволяющая оглянуться на оставшуюся позади опасность — уже без страха и даже с удивлением: и чего, собственно, боялся?
Нож был выброшен. Трагедия, которая могла случиться, — не случилась, и, идя назад к машине, я уже смотрел на переживания еще минутной давности, как на прошлое — как бы со стороны, с расстояния. Переживания остались там, я шел — здесь, а между нами уже была стена нескольких минут. И чем дальше я отходил от места, где бросил нож, тем толще и надежней становилась эта стена, тем меньшей казалась опасность, заставившая меня попятиться, тем противнее становился я себе самому.
Получалось, что я оказался неспособным справиться с делом, с которым справлялись те, кого я считал менее сильными, чем я: те обвиняемые и подсудимые, с которыми ежедневно сталкивался на работе, на кого смотрел свысока, кого судил и наказывал за их безволие и немощь. Получалось, что я был еще немощнее их, — я категорически не желал этого слышать, мое самолюбие закорчилось, но возражать мне было нечем — только что случившееся свидетельствовало именно об этом. И тогда во мне стала подниматься злоба.
Мои рассуждения о собственной слабости были, конечно же, бессмысленной мешаниной грешного с праведным, подменой понятий, где белое я назвал черным, здравомыслие — слабостью.
А между тем мы уже ехали, и я продолжал поносить себя, распаляясь оттого все больше. От злобы на себя я тут же перекинулся к обвинению Поляковой в том, что она нарочно попалась мне на пути и вынудила меня поехать сюда, к обвинению Ковалевой с ее днем рождения, к обвинению брата в том, что не остался дома и сидит теперь рядом и, конечно же, ждет, как я ему все это теперь буду объяснять. Я был раздавлен и виновным в этом считал и себя, и всех их, особенно женщин — вовлекли меня в эту поездку, и уже почти ненавидел их.
В эту минуту кто-то из них тронул меня за плечо и о чем-то спросил. Поворачивая голову, я нечаянно столкнулся со взглядом брата. Как всякий самолюб, я был крайне мнителен, и я, конечно же, в ту секунду разглядел в глазах брата усмешку.
Потом, уже месяцы спустя, я спросил брата, о чем он тогда, в машине, когда наши взгляды встретились, подумал. Он сказал, что в ту минуту он был настолько рад, что все кончилось именно так, что все остались живы, — что ни о какой усмешке не могло быть и речи. Он не только не осуждал меня, а напротив — считал, что и на этот раз я принял самое правильное решение. Неправды брат не говорил мне никогда.
Но тогда, в ту минуту, я увидел только то, что померещилось моей мнительности, усмешку, которая могла означать одно — трус!
Страшнее этого слова для меня ничего не было. То, что удержало мою руку в лесу, в мгновение ока было сметено и уничтожено взрывом захлестнувшей меня ярости. Именно этот взрыв, это бешеное желание моего самолюбия во что бы то ни стало, любым способом — даже убийством человека, доказать брату, себе самому, всему миру, что я не слабак, не трус, — и есть, на мой взгляд, то, что побудило, спровоцировало и заставило меня сделать и последний шаг. То, что оказалось не под силу корысти, — сделало самолюбие. Это была ловушка, но, ослепленный приступом самолюбия, я уже не желал ничего ни видеть, ни слышать — я уже ХОТЕЛ убивать. Хотел этого сам.
Откуда возник новый план действий, я не знаю, он просто возник и все, и я со всей лютостью кинулся к его исполнению.
Мы не отъехали от поляны и 200 метров. Я умышленно крутнул рулем чуть больше, чем следовало, и попал колесом в колею. Газанув для видимости раз-другой, я вышел из машины, взял из багажника топорик и, срубив несколько веток и бросив их под колеса, велел брату и женщинам тоже выйти и подтолкнуть машину сзади. Они вышли, я сел за руль, не включая скорости погазовал, снова вылез, подхватил с земли топорик и, сделав вид, что хочу срубить еще веток, сделал несколько шагов вдоль кустов и оказался за спиной у женщин.
Пытаясь доказать, что я не трус, я доказал другое — что я перестал быть человеком.
А потом был суд, камера смертника, помилование, этапы. И снова были сокамерники и попутчики, верующие, кто больше, кто меньше, в собственную Везучесть, объясняющие все свои беды стечением обстоятельств и досадной Случайностью. Люди, не желающие верить в существование Бога и дьявола. Не желающие признать, что остаться нейтральным, не присоединяясь ни к Богу, ни к сатане, — невозможно, что, хочет того человек или не хочет, он обязательно будет принадлежать какой-то одной из сторон: если не с Богом — тогда обязательно с дьяволом. Я снова и снова слышал рассуждения людей, говоривших мне: «Будь у меня такой опыт работы с преступлениями и преступниками, какой имел ты, такое образование, как юридический институт, — да я бы ни за что и никогда не оказался бы за колючей проволокой!» Людей, не желавших и слышать о том, что если, доведенный нашим деланием мерзостей и подлостей до гнева, Бог решит нас наказать, то ни глубочайшие познания в области юриспруденции, ни наличие пусть самого огромного криминального опыта — ни от тюрьмы, ни от сумы, ни от прочих поражений и страданий не защитят и не спасут, и мой случай — нагляднейший тому пример.
Совсем недавно услышал притчу о жившем у океана мальчике. Каждое утро после ночного шторма он шел на берег, собирал и кидал обратно в воду выброшенные на песок штормом морские звезды. Серенькие, маленькие, никакой особой ценности из себя не представляющие. Долгое время наблюдавший за всем этим человек сказал мальчику, что океан выбрасывает миллиарды звезд, и оттого, что мальчик вернет в воду несколько десятков из них, ничего не изменится, что все его действия по спасению звезд — бессмысленны. Подняв с песка очередную звезду, мальчик сказал: «Лично для нее — не бессмысленны» — и швырнул ее в воду.
Может оказаться, что не совсем напрасно выходил сегодня на берег и я.
← Предыдущая глава | Следующая глава →
Первая часть книги
– Глава 1
– Глава 2
– Глава 3
– Глава 4
Вторая часть книги
– Глава 5
– Глава 6
– Глава 7
– Глава 8
– Глава 9
– Глава 10
– Глава 11
– Глава 12